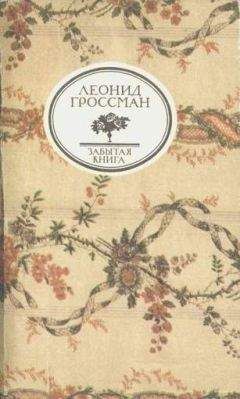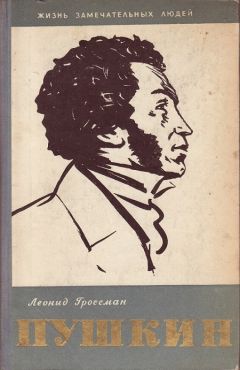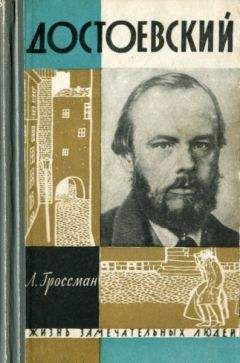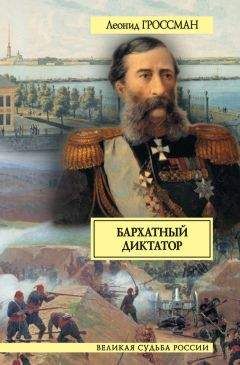Леонид Гроссман - Записки д`Аршиака, Пушкин в театральных креслах, Карьера д`Антеса
Необходимо было всячески загладить это впечатление в сознании двора и города. С общего согласия было решено, что мое присутствие на отпевании было бы неудобным, но что сам Барант, в сопровождении своей семьи и обоих секретарей, будет присутствовать на всех официальных мессах и примет участие в похоронной процессии, проводя тело поэта до самой могилы. Лично высоко ценивший покойного, Барант был искренне огорчен смертью Пушкина и решил написать соответственное письмо от своего имени вдове поэта.
План этот не удалось осуществить полностью. Когда утром 1 февраля карета посла подъехала к Адмиралтейской церкви, где было назначено отпевание, храм оказался запертым. С трудом удалось выяснить, что тело было перенесено ночью в другую церковь — Конюшенную, с целью ослабить стечение народа к моменту отпевания. И все же карете Баранта пришлось проезжать через сплошную толпу народа, запрудившую площадь перед церковью Конюшенного ведомства.
Странный выбор храма! Я как-то осматривал это здание, где хранится золотая карета, присланная Людовиком XV в подарок «северной Семирамиде», и где с благоговейным патриотизмом оберегается от порчи чучело лошади, на которой Александр I въезжал в Париж. И вот здесь, по соседству с конскими стойлами и экипажными сараями, среди огромного загона царских лошадей, рядом с отборным собранием седел, чепраков, попон и сбруи, было выставлено на два дня тело убитого поэта.
Вот что рассказали мне все наши, присутствовавшие на отпевании.
Красный бархат гроба выделял восковую бледность лица, истощенного предсмертными страданиями, но принявшего после смерти выражение глубокого и мирного сна. Высокий лоб, казалось, светился изнутри в желтоватом озарении свеч, а пряди волос, упавшие назад, словно были смочены каплями мученического пота. Бескровные руки с голубоватыми ногтями воздушно и легко лежали на груди, готовые для отдыха после совершенного ими великого труда. Всеми своими очертаниями это мертвое тело, казалось, жаждало одного: покоя… покоя!
Мне вспомнились стансы о трех ключах, записанные некогда Пушкиным в девичий альбом Софьи Карамзиной и поразившие меня своей безнадежной печалью:
Последний ключ, холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит…
Отпевание протекало в торжественной обстановке. Государь, которого многие, особенно из иностранцев, ожидали увидеть у гроба великого поэта, отсутствовал. Всеобщее внимание обратило на себя появление Уварова. Говорили, что министр присутствием у гроба хотел скрыть свою вражду к покойному за оду к Лукуллу и участием в похоронах маскировать секретные циркуляры, запрещавшие студентам и профессорам отпевать поэта, а газетам и журналам — помещать хвалебные некрологи о нем.
Зато Европа была представлена широко. Почти весь дипломатический корпус Петербурга присутствовал на отпевании. У гроба стали послы, близко знавшие Пушкина: Фикельмон, в парадной форме, при всех орденах, с семьей и свитой, саксонский посланник Лютцероде, баварский фон Лерхенфельд, поверенный Швеции и Норвегии де Нордин, французское посольство почти в полном составе. Вслед за Барантом встали Бутера, Блом, Гогенлоэ-Кирхберг, Симонетти и ряд представителей других миссий. Таким образом, итальянские и германские княжества, Франция, Австрия и Скандинавский полуостров были представлены у гроба русского поэта. Лорд Дэрам незадолго перед тем выехал за границу. Из всего дипломатического корпуса один только прусский посол Либерман отказался явиться к телу «республиканца» Пушкина. Само собою разумеется, что голландское посольство не было приглашено.
— По моему основному ремеслу летописца, — рассказывал вечером Барант, — я привык различать в суете текущих событий отзвуки проходящей истории. И, стоя сегодня в этой пасмурной церкви, почти прикасаясь к этому темно-красному бархатному гробу с восковой, истонченной предсмертными страданиями головой поэта, я словно чувствовал всю торжественность этой великой, горестной и незабываемой минуты. Кто знал Пушкина, тот, конечно, понимал, что в истории России, столь еще скудной великими художественными дарованиями, происходит трагическое событие неизмеримого значения. Аустерлиц и Бородино, быть может, бледнеют перед этой утратой носителя творческой культуры в бедной, суровой и несчастной стране.
— Ваше чувство так выражалось на вашем лице, — заметил наш секретарь, — что кто-то стоявший рядом со мной почти шепотом сказал своему соседу, указывая на официальный холод генералов и вельмож: кажется, единственный русский во всем этом — Барант.
— Нет, — возразил посол, — я чувствовал общую глубокую и искреннюю скорбь на этом отпевании. Пушкин имел друзей. Тяжело было смотреть на Жуковского или на этого старого баснописца, который весь в слезах последним простился с телом поэта…
Барант задумался, как бы припоминая какое-то горестное и важное впечатление. Затем он медленно произнес:
— Как прав Чаадаев!.. Я это особенно почувствовал именно сегодня в этой своеобразной обстановке отпевания. В русской церкви стирается весь облик современности. Из европейского Петербурга вы неощутимо переноситесь в древность. Строгие лики византийских богородиц и угрюмые взгляды греко-славянских святителей в обрамлении золотых надписей на почерневшем поле изображений — все это воскрешает перед вами эпоху Иоанна Грозного или даже татарского ига. Вы погружаетесь в недра русской истории, и под заунывные напевы этих длинноволосых и бородатых жрецов, похожих на мужиков в архангеловых одеждах, вы неожиданно улавливаете какую-то великую горечь и неизбывную суровость этой истории, всю ее тоску и нечеловеческие муки. Когда густой фимиам заслонял от меня на мгновенье мундиры, плащи и дамские токи, когда я закрывал глаза, вслушиваясь в печальные жалобы невидимого хора, я начинал ощущать весь дух и смысл того тысячелетнего бедствия, которое придворные ученые называют здесь историей государства Российского. Мне казалось, что у нас, в Европе, такие катастрофы невозможны. Ведь мы сумели сберечь Вольтера и Гете… Неужели же русский император не имел возможности спасти Пушкина, когда весь город на всех перекрестках вот уже несколько месяцев не перестает кричать о его семейной драме и копаться в интимнейших тайнах его личной жизни?
Я осведомился у барона о жене поэта.
— Тяжело и больно было смотреть на эту молодую женщину. Красота ее, всегда несколько бесстрастная и все же вызывавшая к себе неизменное чувство сострадания и нежного участия, получила теперь глубокий отпечаток трагического. Эта царица балов с рассеянным взглядом и безразличной улыбкой была впервые очеловечена страданьем. На фоне темных икон, среди бесчисленных восковых свечей и мерцаний церковного убранства эта измученная строгая голова глубоко волновала и трогала. Черный убор, спадающий на этот лучезарный лоб, словно выделял его ничем не омрачаемую чистоту. Страдальческий облик юной женщины, весь омоченный слезами, казался живым воплощением безмерной человеческой скорби. Странно было видеть это праздничное и светлое лицо в таком глубоком трауре, и невозможно было не преклониться перед этой печалью надгробного изваяния…
* * *Когда вечером этого дня мы собрались у саксонского посланника Лютцероде, писателя, переводчика и собирателя народных песен, он обвел нас грустным взглядом и тихо сказал:
— Друзья мои, я решил отменить назначенный бал и посвятить наш вечер беседе. Вы, верно, согласитесь со мной, что танцевать сегодня нельзя: мы только что похоронили Пушкина.
ИЗ КАМЕР-ФУРЬЕРСКОГО ЖУРНАЛА
1 февраля.
Двадцать пять минут восьмого часа их императорские величества с их императорскими высочествами из золотой гостиной комнаты выход имели в концертный зал в собрание, где и присутствовали при представлении французскими актерами двух пиэс: «Le temoin», водевиль в одном акте Скриба и Мэльвиля, и «М-r Clement Rossignol», водевиль в одном акте Дювера и Детели.
XVII
На другой день я оставлял Петербург. Друзья Пушкина — Вяземский, Александр Тургенев, Жуковский, Данзас — много беседовали со мною перед отъездом. По просьбе Вяземского, я изложил ему в письме все обстоятельства дуэли. Близкие к покойному не скрывали от меня, что петербургская знать не приняла никакого участия в народной скорби.
— Клевета продолжает терзать память Пушкина, как терзала при жизни его душу, — говорил мне Вяземский. — Несколько гостиных сделали из него предмет своих партийных интересов и споров. Для суждения о покойном они ничего не находят, кроме хулы…
— Знать ваша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине, — отвечал я.
— Вы правы, дорогой д'Аршиак, — заметил Тургенев, — иностранцы оказались выше наших аристократов. Вы жалеете о нашем Пушкине, как о своем соотечественнике.